Читай между строк: Как комментарий к книге меняет ее содержание
Широко распространено мнение, будто комментарий к литературному произведению вызывает подлинный интерес лишь у литературоведа
© John Morgan Studio/Glitche
Широко распространено мнение, будто комментарий к литературному произведению вызывает подлинный интерес лишь у литературоведа, который привык не наслаждаться чтением, а препарировать книги — как Эмиль Золя, уподобившись хирургу, препарировал человеческую личность. На деле же вдумчивый, обстоятельный комментарий способен открыть книгу с новой стороны и для читателя, не претендующего на научные лавры. Более того, читать его лучше не постфактум, а параллельно с основным текстом, иначе есть риск упустить важные подробности.
«Улисс» Джеймса Джойса
Комментарий С. Хоружего
Переводчик Виктор Голышев, подаривший российской аудитории Трумена Капоте, Кена Кизи и Торнтона Уайлдера, во время своего выступления для проекта «Открытая лекция» сказал, что первая издательская рецензия на русский перевод «Улисса» представляла собой «80 страниц ненависти». В СССР роман Джойса целиком увидел свет в 1989 году на страницах журнала «Иностранная литература», а спустя четыре года, уже в новом государстве, был опубликован отдельным изданием с обширным комментарием Сергея Хоружего. Вообще-то переводить «Улисса» на русский начал Виктор Хинкис, но завершить работу он не успел, и после его смерти задача объяснить чуть ли не каждую фразу в романе досталась Хоружему. Пытаться покорить «Улисса», не обращаясь ежеминутно к комментарию, не то что бы совсем бесполезно: в книге есть особая, интуитивно понятная музыка языка, и насладиться ею можно и без глубокого погружения в интеллектуальные игры Джойса. Однако Хоружий не только толкует многочисленные аллюзии на реальных исторических персонажей и другие литературные произведения, но и обозначает опорные точки композиции «Улисса» и выделяет основные темы каждого эпизода. Без их понимания джойсовский поток сознания, увы, порой кажется пустым нагромождением слов.
«Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева
Комментарий Э. Власова
Значительно уступая «Улиссу» в объеме, поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» вполне сопоставима с романом Джойса с точки структуры, тематики и поэтики: автобиографический герой, мотив странствия, образ близкой, но недосягаемой возлюбленной и так далее. Правда, если понятия, которыми оперирует Джойс, порой вызывают недоумение даже у коренных ирландцев, то у Ерофеева все вроде бы предельно ясно: Кремль, одеколон, волосатые ноги Горького. Казалось бы, ну что тут комментировать? На деле же большая часть поэмы Ерофеева представляет собой пародию на другие тексты — начиная с радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и заканчивая газетными заметками советских времен. Хотя подробнейший комментарий Эдуарда Власова к «Петушкам» был в пух и прах раскритикован идеологом арт-группы «Война» Алексеем Плуцером-Сарно за чересчур прямолинейные интерпретации и стремление найти литературные параллели там, где их на самом деле нет, он достоин внимания потому, что раскрывает значение «Петушков» для истории развития отечественной литературы — как грандиозного памятника произаического концептуализма.
«Евгений Онегин» Александра Пушкина
Комментарий В. Набокова
Впервые «Евгения Онегина» на английский язык перевел британец Генри Сполдинг еще в 1881 году. С тех пор англоговорящий читатель увидел не один десяток переводов пушкинского романа в стихах и его фрагментов. Самым известным на сегодняшний день считается перевод, выполненный Владимиром Набоковым и опубликованный в 1964 году в Нью-Йорке. В отличие от большинства своих предшественников, Набоков стремился не к тому, чтобы английская версия «Онегина» была складной да ладной, а к передаче точного контекстуального значения оригинала. Дабы аудитория поняла, в каких культурных, исторических и бытовых условиях жили герои Пушкина, Набоков снабдил свой перевод пространным комментарием, над которым работал 15 лет, и назвал его «кабинетным подвигом». Не отступая от образа дотошного, но ироничного критика, Набоков рассказывает о том, какие прически модно было носить в России XIX века, как девушки на Руси гадали на суженого и почему с Пушкин с таким трепетом говорит о женских ножках. Одним словом, труд Набокова и сам по себе достоин звания «энциклопедии русской жизни», которое присудил «Онегину» Белинский.
«Алмазный мой венец» Валентина Катаева
Комментарий О. Лекманова, М. Рейкиной, Л. Видгофа
Хотя сам Валентин Катаев не раз говорил, что не считает «Алмазный мой венец» мемуарами, и утверждал, будто книга является «свободным полетом фантазии, основанным на истинных происшествиях», для последующих поколений его роман стал кладезем знаний о литераторах-современниках Катаева. Олеша, Бабель, Булгаков, Пастернак, Есенин, Мандельштам — кто только ни выведен в «АМВ» под нарочито наивными, почти детскими кличками вроде «Ключика», «Вьюна» и «Конармейца». Конечно, для того, чтобы узнать в Командоре Маяковского, большого ума не надо, но с менее известными персонажами дело обстоит значительно сложнее. Поэтому комментарий Олега Лекманова, Марии Рейкиной и Леонида Видгофа — это не только литературоведческое и культурологическое исследование, но и, с одной стороны, своеобразный ключ к роману, а с другой — попытка отделить его документальную составляющую от художественной: все–таки «Алмазный мой венец» — беллетризованные воспоминания, и местами Катаев грешил против истины. Например, по мнению исследователей, он преувеличил степень близости своих отношений с Есениным и выдал их «шапочное знакомство» за «закадычную дружбу».
«Голем» Густава Майринка
Комментарий В. Крюкова
Мистическая сущность Праги, которая сегодня служит отличной приманкой для сотен тысяч туристов, наиболее полное отражение нашла в романе австрийского писателя-экспрессиониста Густава Майринка «Голем», основанном на еврейской легенде о глиняном великане. Согласно преданию, он был создан раввином Иехудой Бен Бецалелем то ли для помощи по хозяйству, то ли для защиты пражского еврейского гетто от погромов. В романе Майринка Голем становится воплощением хтонического ужаса, страха человека перед неизведанным. Короткий, но обстоятельный комментарий переводчика Владимира Крюкова ценен не только тем, что в нем дается ключ к каббалистической символике романа. Прага у Майринка изображена как лабиринт темных, таинственных улиц, в котором сам черт ногу сломит. Крюков же восстанавливает географию перемещений Атанасиуса Перната по городу, давая читателю возможность пройти по следам героя и попробовать отыскать тот самый дом, где в комнате без дверей прячется Голем — мятущаяся душа гетто.
«Одиссея» и «Илиада» Гомера
Комментарий Е. Солунского
Комментарий, объем которого превышает объем самого произведения, не редкость: взять хотя бы упомянутый труд Набокова. Византийский церковный деятель, историк и писатель Евстафий Солунский, живший в XII веке нашей эры, пошел существенно дальше: его комментарий к «Одиссее» и «Идиаде» Гомера в современном издании занимает семь томов. Гомеровские тексты Евстафий рассматривает как в филологическом, так и историографическом акспекте: он анализирует лексический состав поэм, рассуждает о границах правды и вымысла в них и пытается найти доказательства тому, что некоторые события «Одиссеи» могли иметь место в действительности, поскольку память о них якобы хранит Средиземноморье. Кроме того, Солунский критикует своих коллег-ученых за то, что те обращают внимание в первую очередь на «Илиаду», а «Одиссеей» пренебрегают из–за обилия в ней сказочных мотивов. Несмотря на то, что сегодня в научном мире уже не отдается видимого предпочтения ни одному из оплотов творческого наследия Гомера, в глазах массовой аудитории «Одиссея» действительно до сих пор остается скорее книгой для детей и подростков, а «Илиада» — настольной книгой интеллектуалов.
«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека
Комментарий С. Солоуха
Пожалуй, только в такой стране, как Чехия, где в утыканных древними храмами городах живут сплошь атеисты, национальной литературной классикой могла стать полная туалетных шуток книга про выпивоху, который, пользуясь своей идиотической прямотой, камня на камне не оставил от политики милитаризма. Правда, это еще большой вопрос, кто страдает идиотизмом, — сам Швейк или все, кто его окружает. Современники Гашека думали, будто популярность «Швейка» будет недолгой: мол, роман соткан из деталей, которые ни о чем не скажут тем, кто не жил в Австро-Венгрии 1910-х годов. Ну, допустим, откуда новому поколению знать, что в пражской пивной «У чаши» действительно служил некто Паливец? Тем не менее, благодаря бесконечному обаянию главного героя и великому мастерству Гашека-сатирика, «Швейк» по-прежнему бодро шагает по планете. Восполнить же пробелы в знаниях европейской истории и быта начала XX века поможет комментарий Сергея Солоуха к русскому переводу «Швейка», где есть и сведения о реальных адресах, упомянутых в книге, и анализ особенностей языка персонажей, и панорама Первой мировой войны, вдвойне актуальная еще и потому, что в наши дни это событие, похоже, наконец начало выходить из тени устроенной Гитлером бойни номер 1939.
«Пуритане» Вальтера Скотта
Комментарий А. Бобовича
Безусловно, переводческий комментарий необходим романам Вальтера Скотта в первую очередь для воссоздания исторических обстоятельств, в которых существуют персонажи. Вместе с тем, если поздние реалисты все–таки стремились написать объективный портрет эпохи и старались избегать оценочных суждений о своих героях и их поступках (что, впрочем, далеко не всегда получалось даже у Бальзака и Диккенса — столпов реализма), то симпатии, антипатии и сомнения Скотта, в общем-то, лежат на поверхности — особенно когда речь идет об оригиналах произведений. Перевод же естественным образом скрадывает оттенки и во многих случаях убивает языковую игру. Здесь на помощь читателю приходит комментарий, в котором отражено истинное значение той или иной характеристики, данной либо автором героям, либо героями — друг другу. В этом смысле показателен комментарий Анания Бобовича к роману «Пуритане»: именно из него мы узнаем, что «пок-пуддинг» — это обидное прозвище, данное шотландцам англичанами, а желание посадить женщину «в подобающее кресло» намекает на ее сварливость, так как раньше существовала традиция окунать склочниц в воду, предварительно посадив их на подвешенную к шесту-журавлю скамейку.
Проспер Мериме «Кармен»
Автокомментарий
Если формально подходить к рассмотрению системы образов новеллы Проспера Мериме «Кармен», образа автора в ней вроде бы нет — зато есть два рассказчика: несчастный Хосе из Наварры, павший жертвой демонического очарования прекрасной цыганки, и странствующий ученый, этнографические заметки которого служат своего рода кратким путеводителем по цыганским обычаям. На самом деле автор в «Кармен» существует — и он отнюдь не тождествен рассказчику-этнографу, даже несмотря на то, что этот персонаж отчасти автобиографичен: Мериме занимал пост инспектора исторических памятников Франции и по долгу службы много путешествовал. Тем не менее голос автора звучит не в репликах наблюдательного ученого, а в комментариях к новелле, где он поясняет некоторые испанские традиции и рассказывает легенду об улице Кандилехо, на которой обитала Кармен. Этот хитрый прием Мериме использует, в частности, для того, чтобы показать, что рассказчик — не истина в последней инстанции, и далеко не всем его научным изысканиям стоит доверять.
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
Комментарий Ю. Щеглова
Юрий Щеглов — русский и советский литературовед и лингвист, вместе с Александром Жолковским стоявший у истоков генеративной поэтики: от других областей поэтики она отличается тем, что фокусируется на изучении, понимании и анализе принципов рождения того или иного текста. Неудивительно, что в комментарии к книгам «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Щеглов по крупицам восстанавливает источники, на которые опиралась Ильф и Петров, чьи романы изобилуют реминисценциями: здесь — отсылка в Шекспиру, там — к Пушкину, на следующей странице — к Диккенсу. В то же время монументальный труд Щеглова, написанный живым, образным языком, представляет собой увлекательный, полный неожиданных поворотов нон-фикшн. Методично, одну за другой Щеглов раскрывает тайны биографии Остапа Бендера — главного отечественного литературного афериста, чьим прототипом был то ли Чичиков, то ли Христос, то ли известный одесский мошенник Осип Шор.
Источник: https://econet.kz/
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.Подпишитесь на наш ФБ: , чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!


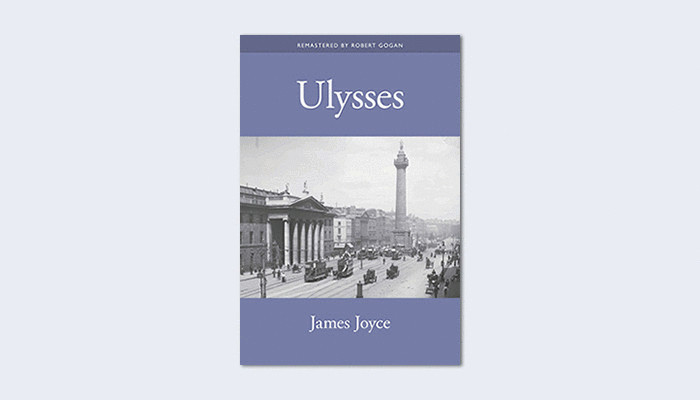
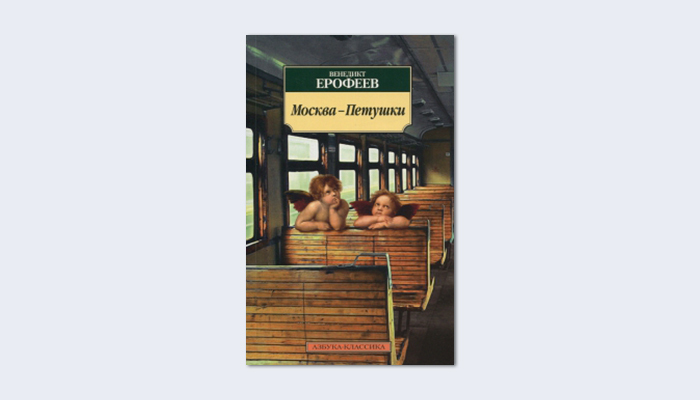
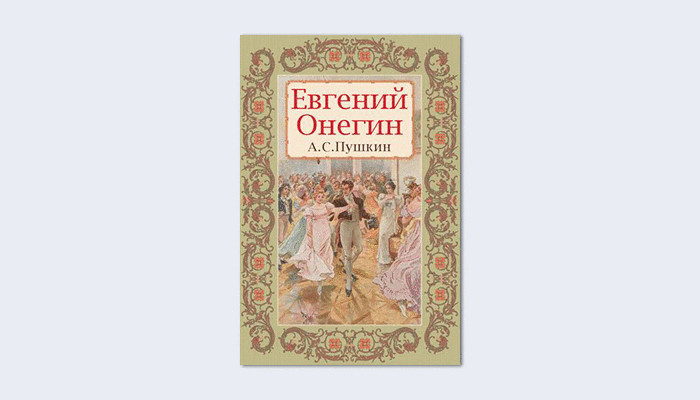


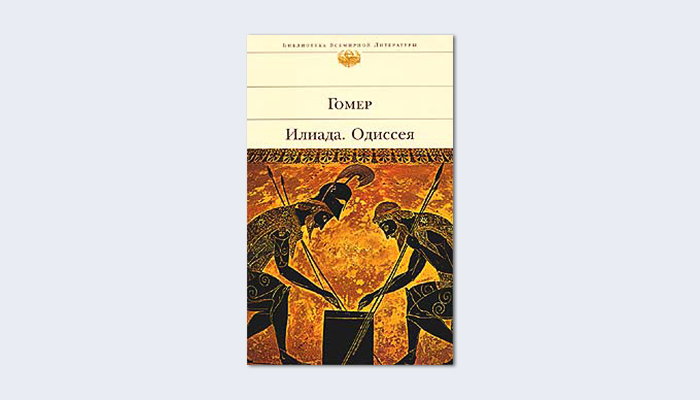
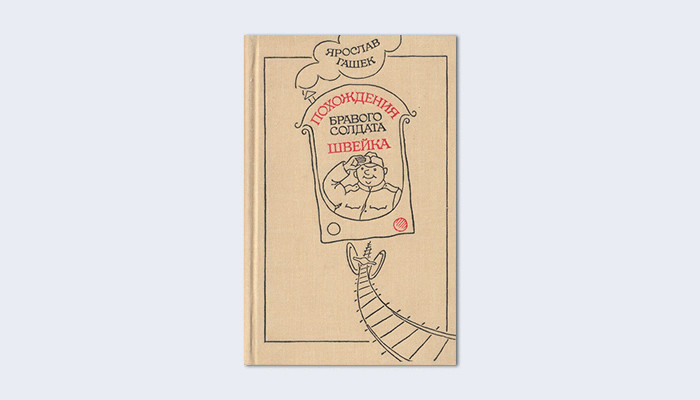


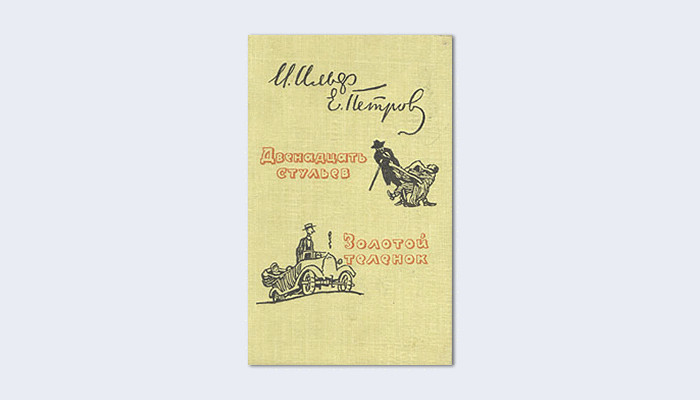

Добавить комментарий